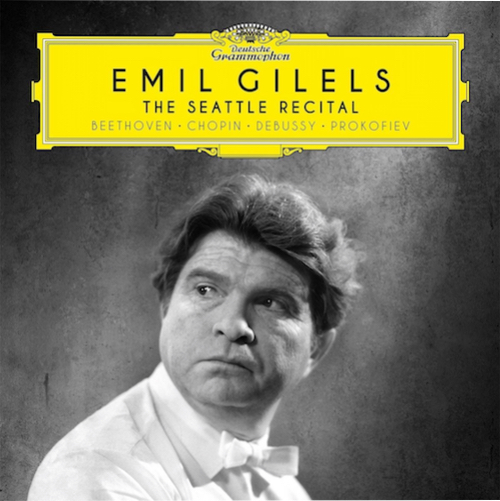Среди релизов, вышедших к 100-летию со дня рождения Эмиля Гилельса в 2016 году, издание Deutsche Grammophon «Emil Gilels. The Seattle Recital», несмотря на лаконичность программы и непритязательность оформления, занимает оcобое место — не только по архивно-коллекционным причинам, но как событие художественной истории. Живая концертная запись, сделанная в 1964 году в зале Оперного театра Сиэттла с использованием профессионального оборудования в некоммерческих целях (в распоряжении Deutsche Grammophon запись оказалась благодаря пианисту, профессору Штутгартской школы музыки и основателю Фонда Гилельса Феликсу Готлибу), раньше никогда не издавалась, а ее публикация добавляет к развернутой картине гилельсовского искусства уникальные детали.
Слушать альбом в Apple
Слушать альбом в Яндекс музыке
Хорошо слышно, что микрофон ловит звучание Бетховена, Шопена, Дебюсси, Прокофьева, Равеля, Стравинского и Баха издалека (работа звукоинженеров позволяет скорректировать потери качества), тем не менее «золотой звук» Гилельса, в гипнотический мир которого только иногда неосторожно встревают звуки зала, кажется почти осязаемым.
Золотой или серебряный (торжественный эпитет прирос к звучанию Гилельса еще при его жизни, став едва не официальным), но феноменальный звук, действительно, абсолютно узнаваем. Он постепенно раскрывается во всех нюансах и поражает способностью теплеть и леденеть, светлеть и покрываться тенью, и в финале в «Русском танце» из «Петрушки» Стравинского и b-mollной Прелюдии Баха-Зилоти от него по-разному, но словно очевидное сияние исходит.
Судя по всему в программе клавирабенда в Сиэттле (после сенсационного Нью-йоркского дебюта 1955 года это была пятая из двенадцати гастрольных поездок в Америку, составивших своего рода «американские сезоны Гилельса») еще звучала Первая баллада Шопена, но запись полностью не сохранилась. И теперь мы имеем дело с репертуарным планом, открывающимся до-мажорной «Вальдштайн-сонатой» Бетховена (№ 21, op 53, в русской традиции — «Аврора») и завершающимся Бахом. Между этими точками — удивительный в своей выразительности и ясности пунктирный рисунок всего гилельсовского репертуара, конспект самых важных тем.
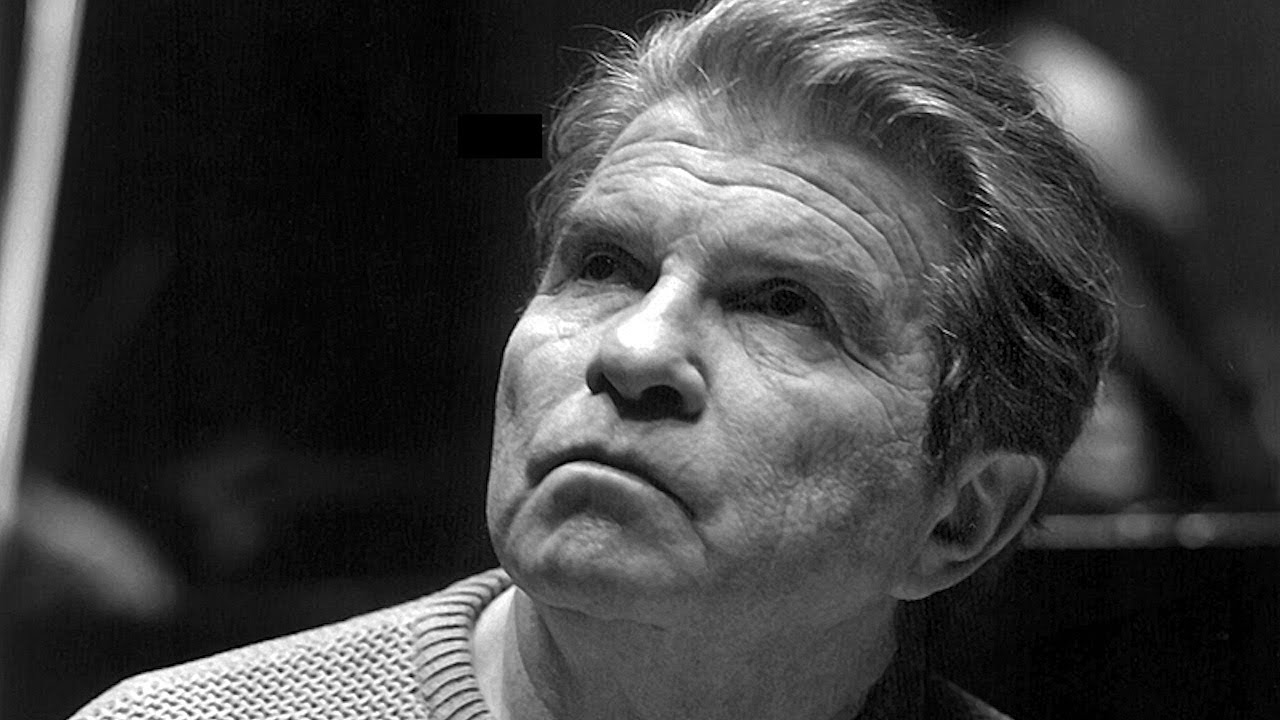
Главная среди них — Бетховен. Записавший все бетховенские концерты, но не оставивший записи всех сонат, Гилельс особенно близок Бетховену и в то же время осторожен, в течение жизни он подчеркнуто неспешно собирает, накапливает, выращивает материал для настоящей реализации своей уникальной фантазии о бетховенском стиле (так он подходит к поздним сонатам лишь в конце жизни, но ощущение накопления образа различимо в каждом конкретном исполнении). Это может прозвучать странно, но стоит даже бегло взглянуть на фотографию пианиста на обложке диска, как на память приходят очертания известного бетховенского портрета. Все ассоциации субъективны, но дают знать как прочно в сознании Гилельс ассоциируется с миром бетховенской фортепианной музыки. В сравнении с другими записями «Аврора» на новом диске может показаться скорее эскизом (невероятно, но в Allegro хорошо слышны фальшивые ноты, редчайший случай в практике одного из сильнейших виртуозов фортепианного 20 века), чем официальной картиной в раме с ярлыками. Вместе с тем, это та самая гилельсовская «Вальдштайн-соната», где Allegro представляет собой неуклонный, яростный ход звуковых событий, Adagio — странный сумрак космической пустоты в трех минутах свободной формы и сфокусированно прозрачного, как будто погасшего звука, а Рондо полемически азартно играет с контрастом ласковой темы и сокрушительной прометеевской радости движения к коде (о какой заре здесь можно говорить, здесь вспышка света ослепляет почти мгновенно).
Рецензенты склонны упрекать Гилельса на этой записи в известной жесткости, едва ли не формальности звучания, но представляется, что дело здесь в эскизной проработке отточенно ясного, цельного замысла, так графика отличается от заполненного цветом живописного полотна и со всей отчетливостью представляет его идею. Не защищенная своеобразным очарованием привычного гилельсовского совершенства, изумляющая оголенной структурной красотой, подчеркнутой скульптурной фразировкой, гибким речевым интонированием во всех пластах музыкальной ткани и, безусловно, лавинообразными темпами (известен, впрочем, фокус настройщика Гилельса Константина Богино, когда сравнительное прослушивание разных записей с метрономом доказывало иллюзорность эффекта сдвинутых гилельсовских темпов), исполнение «Авроры» полностью лишено литературной повествовательности. Его единственный сюжет — возрастание внятности и мощи звукового события, проявляющегося в специфическом гилельсовском ощущении масштаба и движения. Гилельс не строит, не пересказывает, не лепит и не выражает форму, он словно видит ее сразу во всей полноте, стремительно (или, напротив, медленно, но так же неуклонно) заполняя ее звуковым составом. Как если бы капнувшие на бумагу чернила, растекаясь, мгновенно заполняли бы невидимый, но при этом заранее строго очерченный контур. Специфика суггестивного, непреклонного движения внутри формы, уникальное чувство времени как события звука объединяет все сочинения в программе.

Раритетный шопеновский опус — концертные вариации на тему La ci darem la mano Моцарта — на минуту отвлекает слушателя от принципиальных формальных экспериментов Гилельса, обманывает нежным звучанием чуть иронически услышанной темы, с улыбчивой белькантовой нежностью приходящей из темноты вступления (У Гилельса оно звучит как рифма к медленной части «Авроры»). Но вариации, в которых 17-летний Шопен рисует весь круг сюжетов будущего творчества, играя в утонченную жанровую игру (для Моцарта припасены изящные маски мазурки, ноктюрна, блистательного этюдного и трагического прелюдийного письма), возвращают слух к особенному, чуткому к формальной красоте языку гилельсовского искусства, которому безупречно служат жемчужная красота мелкой техники, сдержанная, но бесконечно разнообразная тембровая палитра, интонационная гибкость, при всей масштабности —полифоническая прозрачность фактуры. Шопен разрастается, становится уже не опусом, а звуковой средой.
Она раскачивается во времени, преображается и кажется безграничной, но на сцену выходит Третья соната Прокофьева, чье звучание констрастирует с шопеновским в такой степени, какую-только возможно себе помыслить. Структурная ярость, ритмическая изощренность прокофьевского письма в интерпретации Гилельса словно освещены электричеством, цветовая палитра, кажется, холодной, движение — горячечным и вместе с тем строгим, а динамический профиль пронизан тем уникальным ощущением единства и цельности (как будто эта короткая форма — один единственный жест), какое свойственно только Гилельсу. От Третьей сонаты через изысканную графику «Мимолетностей» Гилельс идет к «Образам» Дебюсси, слыша три пьесы как неуклонную циклическую форму, и Равелю.
Кульминация записи и концерта — «Альборада». Здесь пианист, чей исполнительский стиль, казалось бы, удобно располагается на консервативных страницах истории академического фортепианного искусства, звучит как радикально антиромантический художник 20 века. И эта стрежневая черта его исполнительского характера выглядит ослепительно ясно в музыке, лишенной малейших следов манерности, экзотичности, пряных оттенков. Вместо них в гилельсовской «Альбораде» звучит железная маниакальная остинатность 20 века в невероятно выдержанном, как будто скованном усилием воли (при этом производящем впечатление стремительного) едином темпе с техническим даже не совершенством, но буквально фантасмагорическим качеством.

На бис Гилельс играет излюбленного «Петрушку», огорошивая азартно лучезарной физиономией этой музыки, зал взрывается аплодисментами, но заканчивает Бахом, как будто прощается не только с Сиэттлом, но и с сегодняшним слушателем, с невидимой нам сценой, с инструментом и звуковыми событиями этого вечера, звук приобретает легендарные, сфокусированно округлые, темные, теплые, гипнотические очертания. Вместе с тем снова пронзительно ясно слышно гилельсовское странное чувство времени, могущественного движения. Так что Прелюдия кажется сыгранной на одном выдохе, звучит одной поэтической строфой, одной песенной фразой. Хотя на самом деле их две. Главное здесь — вовремя нажать на стоп, пока в эту как будто отпечатавшуюся в тишине совершенную и в то же время бесконечную форму не вторгаются бесцеремонные аплодисменты.